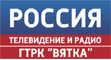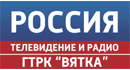Пожарная каланча (художник Дмитрий Сенников, 2018 год)
Пожарная каланча (художник Дмитрий Сенников, 2018 год)Вплоть до XVIII века Москва и другие русские города были в основном деревянными, пожары в них бушевали с пугающей регулярностью. Кратко, но выразительно отмечали летописцы очередное бедствие: «И посад, и Кремль, и Загородье, и Заречье погоре», «Только три двора осталось». Часто горели торговые ряды, лавки, амбары. Это и не мудрено – освещение было от открытого огня. Лучина, свеча, масляная лампа.

В 2015 году в городе Кирове археологи исследовали остатки оборонительных сооружений XVII века. На месте раскопок, когда-то проходила оборонительная стена Хлыновского кремля.
Это очень перспективный объект исследования - его культурный слой сильно пропитан влагой. Предметы из органики: кости, кожа, дерево и береста - в таких условиях консервируются и могут сохраняться веками. В ходе раскопок планировалось решить сразу несколько задач:
 попытаться найти остатки фундамента оборонительных сооружений и проследить возможное продолжение деревянной мостовой обнаруженной недалеко от этого места, на глубине трех метров. В Новгороде Великом деревянные мостовые подарили ученым массу открытий – рядом с ними и были обнаружены первые хорошо сохранившиеся берестяные грамоты.
попытаться найти остатки фундамента оборонительных сооружений и проследить возможное продолжение деревянной мостовой обнаруженной недалеко от этого места, на глубине трех метров. В Новгороде Великом деревянные мостовые подарили ученым массу открытий – рядом с ними и были обнаружены первые хорошо сохранившиеся берестяные грамоты.Почва древнего Хлынова по насыщенности влагой похожа на почву новгородскую – здесь теоретически тоже могли бы сохраниться древние послания на бересте. Тем более, что предки хлыновцев, по преданию, были новгородцами, освоившими эти земли еще в XII веке.
Но, к общему сожалению, продвижение раскопа, вглубь веков, все меньше оставляло надежд на сенсацию. Хотя и попалось сломанное «писало» — инструмент для нанесения букв на дереве или бересте — дальнейшие раскопки несколько остудили пыл исследователей. По мере углубления в культурный слой XVII и XVIII столетий стали проявляться очертания крепостного вала из утрамбованной глины, они были прекрасно видны на ровном срезе раскопа. Выделялись они резким черным абрисом внушительного угольного слоя.
 Этот вал был сооружен в 1663-1665 годах вместо деревянной стены, которая окружала Хлыновский кремль. И в первую очередь эта замена оборонительных укреплений была связана с развитием наступательного вооружения - артиллерии. Пушечным ядрам было просто разрушить деревянную стену, в то время как земляной вал даже мощной артиллерией разрушить было сложно – ядра зарывались в слой глины и теряли свою пробивную силу.
Этот вал был сооружен в 1663-1665 годах вместо деревянной стены, которая окружала Хлыновский кремль. И в первую очередь эта замена оборонительных укреплений была связана с развитием наступательного вооружения - артиллерии. Пушечным ядрам было просто разрушить деревянную стену, в то время как земляной вал даже мощной артиллерией разрушить было сложно – ядра зарывались в слой глины и теряли свою пробивную силу.Но не пушки и ядра «приговорили» эти оборонительные сооружения. Их поглотила огненная стихия. В 1700 году в Хлынове случился страшный пожар, во время которого выгорел почти весь город: "Того ж сентября против 22 числа учинился пожар в Хлынове у Засоры, у Саввы Вепрева, и згорели церкви все, и ризы, и иконы, и книги, и людей шесть человек, и кремль город весь, и на посаде по Московской и Спенцевской и Копанская улицы, и на подгорье все до земских бань, и Успенский монастырь, и в девиче церковь"
Это историческое известие подтвердили и безмолвные свидетели той катастрофы.
Обнаруженные деревянные конструкции крепостного вала на глубине 2,5 метров были буквально превращены высокой температурой в каменный уголь. Во время пожара они находились под слоем глины и «запеклись» без доступа кислорода. В этом случае древесина не горит, а превращается в уголь – это еще одно подтверждение того, какой ужасающий масштаб приобрел пожар в полностью деревянном городе.
После этого пожара сооружения Хлыновского кремля постепенно разрушались и более не восстанавливались. А во второй половине XVIII века здесь уже начинается каменное строительство и город Хлынов по указу императрицы Екатерины II переименовывается в Вятку.

Есть еще одни молчаливые свидетели буйства огненной стихии — это, несомненно, монеты. Они были в домах и церквах, были на земле и под землей. В купеческих ларцах и глиняных корчагах, но ни железо, ни глина не уберегли их от жадных языков пламени. Нередко находят монеты, сплавившиеся в большие слитки металла. На некоторых монетах видно, как вскипал металл в очаге пожара. Монету, подвергшуюся воздействию огня, так же, как и человека, утратившего свое имущество на пожаре, коллекционеры называют – «погорельцем». Такие монеты хранят память о беспощадном буйстве огненной стихии прошлых веков.
 Пожаров панически боялся писатель Федор Михайлович Достоевский, страх пожара часто не давал уснуть классику русской и мировой литературы. Об этом мы узнаем из дневников его супруги Анны Достоевской (Сниткиной). В XIX веке пожары все еще представляли реальную опасность для городов и их жителей. Один из самых катастрофических пожаров в истории XX века произошел в городе Котельнич Вятской губернии в 1926 году. Это был последний пожар такого масштаба в России.
Пожаров панически боялся писатель Федор Михайлович Достоевский, страх пожара часто не давал уснуть классику русской и мировой литературы. Об этом мы узнаем из дневников его супруги Анны Достоевской (Сниткиной). В XIX веке пожары все еще представляли реальную опасность для городов и их жителей. Один из самых катастрофических пожаров в истории XX века произошел в городе Котельнич Вятской губернии в 1926 году. Это был последний пожар такого масштаба в России. Крупный уездный город Котельнич был уничтожен огнем на две трети. Об этом пожаре писали центральные газеты, журнал «Огонек», в номере газеты «Правда» за 27 мая опубликована заметка «Город Котельнич в огне», корреспондент сообщает: «Вятка, 26 мая. Получены сведения о громадном пожаре в г. Котельниче. Огнем охвачена половина города. Сильный ветер способствует дальнейшему распространению огня. Из Вятки срочно отправлены вспомогательные поезда с пожарными частями. Ввиду угрозы железнодорожному пути товаро-пассажирское движение в сторону Котельнича приостановлено».
Крупный уездный город Котельнич был уничтожен огнем на две трети. Об этом пожаре писали центральные газеты, журнал «Огонек», в номере газеты «Правда» за 27 мая опубликована заметка «Город Котельнич в огне», корреспондент сообщает: «Вятка, 26 мая. Получены сведения о громадном пожаре в г. Котельниче. Огнем охвачена половина города. Сильный ветер способствует дальнейшему распространению огня. Из Вятки срочно отправлены вспомогательные поезда с пожарными частями. Ввиду угрозы железнодорожному пути товаро-пассажирское движение в сторону Котельнича приостановлено». За скупыми строчками информационной сводки скрывалась настоящая трагедия. Огнем уничтожен весь центр города. Сгорели все правительственные учреждения, электрическая станция, много складов. Убытки исчислялись миллионами полновесных советских рублей. Были человеческие жертвы. Свыше семи тысяч человек остались без крова и пищи. Пылали даже три каменных церкви и их колокольни, сгорели сады и огороды - такова была сила огненной стихии. По рассказам очевидцев в овраги как лава стекал из горящих складов расплавленный и кипящий сахар. На еще не успевших вспыхнуть домах закипала и пузырилась масляная краска. На людях дымилась одежда, обгорали волосы. Дышать было невозможно, жар обжигал бронхи, дым был повсюду.
За скупыми строчками информационной сводки скрывалась настоящая трагедия. Огнем уничтожен весь центр города. Сгорели все правительственные учреждения, электрическая станция, много складов. Убытки исчислялись миллионами полновесных советских рублей. Были человеческие жертвы. Свыше семи тысяч человек остались без крова и пищи. Пылали даже три каменных церкви и их колокольни, сгорели сады и огороды - такова была сила огненной стихии. По рассказам очевидцев в овраги как лава стекал из горящих складов расплавленный и кипящий сахар. На еще не успевших вспыхнуть домах закипала и пузырилась масляная краска. На людях дымилась одежда, обгорали волосы. Дышать было невозможно, жар обжигал бронхи, дым был повсюду.К тушению привлекли пожарные поезда и паровозы, качавшие воду. Огнеборцы отстояли железнодорожный вокзал, вятская пожарная дружина защитила от огня больницу. В ходе тушения пожара пришлось освободить всех заключенных городской тюрьмы. Они и не думали бежать – вместе с надзирателем они укрылись от огня, прижимаясь к реке. В городе было много раненых с ожогами и отравившихся дымом, в огне погибли около 8 жителей Котельнича. Сгорело 80 общественных зданий и 150 частных домов. Помощь погорельцам стали оказывать уезд и губерния. Крестьяне окружающих деревень везли в город хлеб и теплые вещи, разбирали погорельцев по своим избам. Из Вятки привезли походные кухни и палатки.
 Трагедия города Котельнича началась, образно говоря, тоже «от копеечной свечи». Причина была действительно ничтожна. Впоследствии удалось установить, что самый первый дом загорелся из-за углей, вынесенных в кладовку в глиняной корчаге. Хозяйка забыла их закрыть крышкой, в это время в доме заплакал ребенок и женщина ушла, оставив угли тлеть в деревянной кладовке, естественно, что в скором времени «из искры возгорелось пламя». Причинной такого крупного пожара стала «копеечная» кудель – сырье для производства нитей, которую выложили просушиться на крыше. Сначала загорелся дом достаточно далеко от центра города, затем занялась огнем легкая и сухая как порох кудель, дело довершил сильный ветер. Огненные хлопья тлеющей кудели разлетались по ветру и разносили огонь все дальше и дальше в город. О трагедии в Котельниче было рассказано в журнале «Огонек» в июне 1926 года. Фотографии корреспондентов журнала публикуются впервые.
Трагедия города Котельнича началась, образно говоря, тоже «от копеечной свечи». Причина была действительно ничтожна. Впоследствии удалось установить, что самый первый дом загорелся из-за углей, вынесенных в кладовку в глиняной корчаге. Хозяйка забыла их закрыть крышкой, в это время в доме заплакал ребенок и женщина ушла, оставив угли тлеть в деревянной кладовке, естественно, что в скором времени «из искры возгорелось пламя». Причинной такого крупного пожара стала «копеечная» кудель – сырье для производства нитей, которую выложили просушиться на крыше. Сначала загорелся дом достаточно далеко от центра города, затем занялась огнем легкая и сухая как порох кудель, дело довершил сильный ветер. Огненные хлопья тлеющей кудели разлетались по ветру и разносили огонь все дальше и дальше в город. О трагедии в Котельниче было рассказано в журнале «Огонек» в июне 1926 года. Фотографии корреспондентов журнала публикуются впервые.Сейчас самое время вернутся к первой теме c чего, собственно, все и началось. Чтобы развенчать устоявшийся миф о Москве, сгоревшей от «копеечной свечи», нужно просто обратиться к воспоминаниям современников московского пожара.
 О московском пожаре подробно рассказывает в мемуарах, написанных в 1771 году, майор артиллерии Михаил Васильевич Данилов (1722 -1790). В «Записках» Данилов вспоминает о ярких моментах своей жизни, московском дворянском быте, нравах времен императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В одной из глав названной «Пожар в Москве в 1737 году» Данилов сообщает нам помимо прочего сколько стоила свеча, ставшая причиной пожара. Свеча, оказывается, была не «копеечная», а «денежная» купленная за одну «денгу», то есть ½ копейки. Значит, от нее-то и вспыхнул стольный град. Позднее уже в устной речи для удобства и большей выразительности стали употреблять слово «копеечная». «…На самый Троицын день, поварова жена, на дворе имевшая чулан, зажгла в нем перед образом «денежную» свечу в угодность праздника. А сама пошла готовить есть. Свеча от образа отпала и вмиг зажгла чулан, бывшие во дворе люди были у обедни…» Так как двор был пуст, огонь незамеченным распространился на ближние постройки. Время было сухое, а ветер сильный. «…От сей денежной свечки, распространился вскорости, гибельный и страшный пожар. От коего ни четвертой части Москвы не осталось. В Кремле дворцы, соборы, коллегии, ряды, Мясницкая, Покровка, Басманная старая и новая, слободы все, в пепел обращены. В сем же свирепом пожаре народа немало, а имения и товаров несчетное множество погорело.»
О московском пожаре подробно рассказывает в мемуарах, написанных в 1771 году, майор артиллерии Михаил Васильевич Данилов (1722 -1790). В «Записках» Данилов вспоминает о ярких моментах своей жизни, московском дворянском быте, нравах времен императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В одной из глав названной «Пожар в Москве в 1737 году» Данилов сообщает нам помимо прочего сколько стоила свеча, ставшая причиной пожара. Свеча, оказывается, была не «копеечная», а «денежная» купленная за одну «денгу», то есть ½ копейки. Значит, от нее-то и вспыхнул стольный град. Позднее уже в устной речи для удобства и большей выразительности стали употреблять слово «копеечная». «…На самый Троицын день, поварова жена, на дворе имевшая чулан, зажгла в нем перед образом «денежную» свечу в угодность праздника. А сама пошла готовить есть. Свеча от образа отпала и вмиг зажгла чулан, бывшие во дворе люди были у обедни…» Так как двор был пуст, огонь незамеченным распространился на ближние постройки. Время было сухое, а ветер сильный. «…От сей денежной свечки, распространился вскорости, гибельный и страшный пожар. От коего ни четвертой части Москвы не осталось. В Кремле дворцы, соборы, коллегии, ряды, Мясницкая, Покровка, Басманная старая и новая, слободы все, в пепел обращены. В сем же свирепом пожаре народа немало, а имения и товаров несчетное множество погорело.» Жертвой этого пожара - погорельцем - стал и знаменитый Царь-колокол в московском Кремле. 20 мая 1737 года во время «Троицкого пожара» загорелась деревянная постройка над ямой, в которой стоял колокол. В яму стали падать горящие бревна. Что бы колокол не расплавился сбежавшийся народ стал заливать водою раскаленный металл. В результате колокол дал 11 трещин и от него откололся значительный кусок весом около 700 пудов. (11,5 тонн).
Жертвой этого пожара - погорельцем - стал и знаменитый Царь-колокол в московском Кремле. 20 мая 1737 года во время «Троицкого пожара» загорелась деревянная постройка над ямой, в которой стоял колокол. В яму стали падать горящие бревна. Что бы колокол не расплавился сбежавшийся народ стал заливать водою раскаленный металл. В результате колокол дал 11 трещин и от него откололся значительный кусок весом около 700 пудов. (11,5 тонн).Вот так развенчан еще один исторический миф, не от копеечной свечи, а от «пол-копеечной», Москва сгорела. Сейчас уже век не тот и пожары чаще всего возникают не от свечей, а от небрежно брошенных окурков, не затушенных после пикника костров и мангалов. А порой и просто от баловства с поджогом сухой травы. Причина все так же ничтожна, гроша ломаного не стоит, а последствия все так же страшны и часто непоправимы.
Алексей Фоминых,
режиссер телевидения, автор программ по истории и краеведению